
Рынок городских исследований: 9 триггерных точек и рейтинг добавленной стоимости
За последние 10 лет в России сформировался рынок городских исследований. Один из маркеров развития рынка – собственная коллекция отраслевых проблем, «болей», неудобных вопросов. По данным признакам рынок урбанистических исследований находится между стадиями становления и зрелости: «болей» уже накопилось на медицинскую карту, но артикулировать их не принято.
Портал «Среда для жизни» попросил программного директора выставки АРХ МОСКВА Оксану Надыкто, во-первых, изучить этот рынок, а во-вторых — показать его основные «триггеры» и, возможно, спровоцировать публичную рефлексию.
Зачем вообще нужны исследования
Рассмотрим три рабочих ситуации, когда без исследований точно нельзя обойтись. Назовем их условно уникальная, типовая и долгосрочная.
«Если проект или территория не имеют аналогов, то нам нужно доказать его экономическую жизнеспособность или опровергнуть стопроцентную нереализуемость. Здесь не обойтись без исследований такого рода, как предконцепция, технико-экономические обоснования, рамочные финансовые модели. Их цель – не дать итоговый показатель, а показать возможности и риски.
Если проект, напротив, типовой, и его инициатор хочет улучшить его, дифференцироваться от конкурентов, то задача исследования в данном случае – подобрать такую комбинацию параметров, такое функциональное зонирование, которые обязательно приведут к созданию добавочной стоимости. Наконец, если у вас проект долгосрочный, то вам нужно понять варианты его развития. Тогда и запрос в исследовании будет на сценарии, по каким этот проект может пойти».

заведующая отделом «Лаборатория исследования креативных индустрий» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ
Добавим сюда четвертую ситуацию – когда вообще не понятно, что делать с территорией. И речь не о том, что заказчик «хочет странного», а о том, например, что есть масса земельных участков с отрицательной стоимостью. Например, депрессивные территории, на которых ничего нельзя построить. И исследование здесь выступает инструментом преодоления отрицательной стоимости земли.
Перечисленные четыре ситуации работают в основном с количественными данными, градостроительными документами, математическими моделями прогнозирования. Что касается качественного направления в городских исследованиях — например, социологического, — то с их помощью можно выявлять запросы и сценарии поведения людей и видеть, какие потребности сейчас не закрыты или только формируются. На основании этого прогнозировать востребованность тех или иных пространств.
Если говорить на языке бизнеса, то ценность исследований состоит в том, что они дают некоторые опережающие показатели, которые позволяют посмотреть и понять, куда двигаться дальше.
«Все мы помним десятые годы — волну хипстерского урбанизма и так называемое ковровое благоустройство Москвы, включающее создание парков, которые, в первую очередь, были ориентированы на активно-развлекательный сценарий. И в какой-то момент именно благодаря исследованиям был зафиксирован следующий момент: буквально через 3-4 года после появления таких парков люди начинают от такого формата отдыха уставать, появляется запрос на иные форматы отдыха. Именно исследования помогли проявиться до этого не сформированному четко запросу на то, чтобы на территории парка оказаться за пределами города, раскрепиться, выйти из городской суеты, что не предполагалось развлекательными сценариями. Исследования также показали, как может меняться потребность в парке с точки зрения практик горожан, их проблем, их запросов. Вот здесь людям не хватает, например, форматов спокойного отдыха, а вот здесь люди чувствуют себя небезопасно или возникает социальная разобщенность. Из таких запросов, рисков и ожиданий и появляются программы по благоустройству городской среды, которые подсвечивают не то, куда и какие лавочки надо поставить, а как реагировать на запросы и потребности людей».

сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group
Точка №1. Необходимость исследования для заказчика неочевидна
Одна из особенностей рынка городских исследований заключается в том, что заказчики далеко не всегда могут сформулировать запрос на исследование. Зачастую эта потребность формируется в рамках задач по комплексному развитию городов и территорий.
«Заказчиком исследования может быть как государственный, так и негосударственный сектор. И целеполагание у них будет разное. Что касается государства, то очень редко, за исключением нормативных требований, НИРов, НИОКРов и так далее, которые существуют до сих пор, заказчик приходит именно за исследованием. Чаще в запросе фигурирует слово «аналитика». И это, скорее, эксперты рассказывают заказчику о том, что инструментом решения его задачи должна быть такая форма, как исследование».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
В негосударственном секторе заказы чаще всего поступают в виде запроса на некие преобразования территорий. Затем команды, специализирующиеся на городском консалтинге, начинают формулировать заказчику то, как можно прийти к тому или иному решению, и причем здесь вообще исследование.
Вытащить из заказчика, что же нужно ему на самом деле и насколько его собственные цели совпадают с задачами проекта или города – это отдельный вид искусства консалтинговых команд, требующий навыков на стыке аналитики и психологии. А далее все зависит от того, когда именно заказчик поймет ценность аналитической работы. Если на предпроектной стадии, тогда можно все просчитать и профилактировать риски. Если это происходит уже на стадии реализации проекта, то придется платить за ошибки необоснованных расчетов.
Дополнительную сложность в доказательстве ценности исследования добавляет конкуренция со стороны экспертных советов федеральных или муниципальных министерств и ведомств, институтов развития, являющихся заказчиками крупнейших городских исследований. В эти советы институционально или через отдельных экспертов входят лучшие аналитические умы из сфер экономики, бизнеса, финансов. Задача таких экспертов – готовить аналитические записки, отчеты, составлять экспертные мнения или заключения. То есть, по сути, выполнять в качестве почетной общественной или GR-нагрузки примерно ту же роль, что и коммерческие городские исследования. Поэтому де-факто исследовательская команда, предлагающая коммерческую услугу, допустим, по комплексному анализу той или иной территории, сталкивается с заказчиком, у которого нет дефицита в сопоставимой информации, и которую он — пусть и частично — получает бесплатно.
Отсюда вытекают два следствия. Во-первых, подрядчикам исследований необходимо придумать такой ход, такой эксклюзив, который будет качественно круче бесплатной аналитической записки, подготовленной Экспертным советом при том или ином министерстве. Во-вторых, им также необходимо учитывать пресыщенность государственного заказчика, а также сформированную потребность и привычку требовать нереального.
Точка №2. Разрыв между стартовой гипотезой и результатом
Нередко исследование заказывается для обоснования уже принятого решения по стратегии развития проекта или территории, которое необходимо обосновать через аналитику. Далее все зависит от заказчика. Возможно, полученные данные настолько будут противоречить его стартовой гипотезе, что ранее принятое решение будет скорректировано или отозвано. Или не будет – особенно в случае, если под данное решение предполагается получение финансирования.
«Под запрограммированный результат можно подвести любую базу. Для этого не нужно проводить довольно дорогостоящие исследования. А если мы хотим получить реальные результаты, которые будут потом в том числе обеспечивать коммерческую и социальную устойчивость проекта, то надо работать с реальными данными. Не всегда результат исследования будет совпадать с теми гипотезами, которые мы или заказчики ожидали увидеть на старте».

руководитель проектов бюро ATLAS, глава R&D-центра
проведенных исследований не совпадает с изначальной гипотезой заказчика
«У меня бывают ситуации, когда после одного из этапов исследования я рекомендую этот проект не реализовывать. И этими кейсами, которые сэкономили заказчику деньги, я горжусь не менее, чем остальными. Потому что иногда лучше не построить, чем построить».

заведующая отделом «Лаборатория исследования креативных индустрий» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ
«Многое в дальнейшей судьбе проведенного исследования зависит от того, насколько его заказчик готов переварить внутри себя знания, которые он получает. Среди заказчиков, которые умеют работать с исследованиями и понимают, зачем им это нужно, можно отметить мэрию Москвы, аналитические центры в вузах, занимающиеся разработкой стратегий развития территорий, крупный бизнес, развивающий города присутствия (ОМК + Выкса, Фонд Мельниченко + Красноярский край), крупные девелоперские компании. Хуже обстоит дело с муниципалитетами, многие из которых пока искренне не понимают, во-первых, как использовать эти результаты, а во-вторых, для чего им они нужны. То есть они понимают, что раз так написано в техническом задании или стандарте, это должно быть сделано. Но часто они подходят к ним формально, не понимая, какую настоящую ценность эти исследования для них несут».

сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group
Было бы несправедливо не сказать о заказчиках исследований, которые берут на себя роль стороны, формулирующей как задачу, так и смысл развития города или территории.
«В рамках подготовки исследования города Дербента мы начали свое общение с главой города с того, что он нам рассказывал про роль, миссию и место Дербента в современном мире. В процессе работы над исследованием город постоянно привлекал к обсуждению местную интеллигенцию, лидеров общественного мнения. Именно это позволило исследованию стать энциклопедией о городе, а мастер-плану Дербента — одним из наиболее известных в России примеров работы с новым форматом градостроительного проектирования. И во многом это – заслуга самого города в лице власти, бизнеса и общества».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Точка №3. «Двойная бухгалтерия» и «эзопов язык»
Устойчивая практика последних лет: появляется все больше заказов на исследования, когда есть публичная часть, а есть, скажем так, «всамделишная». То есть у просвещенного заказчика формируется понимание того, что ему нужна реальная управленческая аналитика, чтобы решить реальные проблемы. И он готов заказать одно исследование для узкого круга лиц, а другое – для PR, GR, форумов, телеканалов и прочих ситуаций, где требуются аналитические агитки (отдельная услуга на рынке исследований) и медиа-эффекты.
В исследованиях, которые представляют компромисс между закрытыми и публичными, наблюдается расцвет урбанистической версии «эзопова языка», когда заказчик соглашается опубличить не очень комплиментарные по отношению к его проекту или городу данные, но просит, чтобы они были сформулированы менее резкими фразами. Или чтобы все полученные цифры были сохранены, но расставлены другие акценты. Такие исследования полезно читать «между строк».
Точка №4. Заказчик уходит в отрицание
И вот исследование готово. Все рады? Не факт. Многое зависит от степени отождествления заказчика и стейкхолдеров с предметом исследования. В случае, если полученные данные воспринимаются как новое знание и направление для работы, то результаты исследования принимаются и оцениваются в рамках профессиональных критериев. В случае же, если настоящей целью было получение не экспертизы, а конъюнктурные соображения, то вполне возможно, что результаты исследования заказчик не примет. Зачастую акторами такого неприятия становятся отдельные ведомства в администрациях городов (если исследование делается в масштабах города). Они могут воспринимать данные аналитики как репрессивный механизм в отношении своей работы, который будет для них персонально иметь негативные последствия.
Представим ситуацию, когда администрация условного города в результате проведенного исследования получает данные о том, что в городе более высокий уровень алкоголизации населения, чем «средняя температура по больнице», и это одна из причин деградации человеческого капитала. Далее все зависит от того, как тот или иной глава города привык действовать и принимать решения. Либо он может принять «реальность» и разработать стратегию мер корректировки ситуации, либо он просто уходит в глухую оборону: «Это все не про нас, это не правда!».
Еще одна причина возможного неприятия результатов исследования может заключаться в уверенности людей «мы на местах знаем лучше». Эта установку нельзя назвать неверной: люди, которые работают в городе долгое время, примерно представляют себе, что происходит. Но консультантов нанимают для того, чтобы получить внешний взгляд и некоторый внешний аудит по отработанным и доказавшим свою эффективность методикам. Неготовность принимать результаты часто появляется именно в момент, когда это расходится с опытом людей.
В неприятии нового знания заказчиком есть и более глубокая причина. Она состоит в определении того, кто является конечным пользователем результатов исследования и последующих изменений городской среды. Мысль становится понятной, если сравнить те исследования, где заказчиком является бизнес, и те, где заказчик – муниципалитет или регион.
«Конечным пользователем исследования для бизнеса является сам бизнес. И в бизнесе так называемые ЛПР — «лица, принимающие решения», — как правило, заинтересованы в том, чтобы данные были собраны максимально качественно, чтобы они отражали реальность, даже если она не очень привлекательна. А если мы говорим про городскую среду, то здесь конечными пользователями результатов исследований и последующих изменений города становятся по идее городские жители. И показатели эффективности, на которые ориентируются госслужащие с одной стороны, и критерии удовлетворенности городской средой конечных пользователей с другой, могут расходиться. Заказчик исследований – чиновник — не является конечным пользователем его результатов, даже несмотря на то, что он также является жителем этого города. И это меняет все отношение к тому, как исследования проводятся, какие результаты они предоставляют. Отсюда возникает неприятие результатов аналитики, реакция «вы неправильно посмотрели».

сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group
Определение конечной цели и конечного пользователя городских исследований тесно связаны с темой профессиональной ответственности исследователей за свою работу. За что, в каком формате и перед кем эта ответственность возникает? За факт изготовления и принятия заказчиком аналитических материалов, выполненных с соблюдением всех профессиональных стандартов? Или может быть исследователь ответственен не только перед заказчиком в лице государства или бизнеса, но и перед жителями того города, который стал объектом исследования, чтобы в конечном итоге жизнь в нем стало лучше? Прямую связь между этими явлениями вычленить крайне затруднительно. Впрочем, и задачи такой рынок себе не ставит.
Точка №5. Прямые эффекты от исследования сложно просчитываются
С максималистской точки зрения исследователя, качественно сделанная аналитика считается самоценной: новое знание получено! Но как измерить эффекты с точки зрения города? Допустим, если исследование предполагает дорожную карту изменений, то эффект от него можно видеть, например, по реализации такой карты.
«Чтобы показать, как исследование работает, приведу пример из нашей практики — микрорайон Якутска Кангалассы. В 2018 году мы в составе консорциума с Knight Frank сделали исследование «Кангалассы 2.0. Стратегия развития и дорожная карта территории». Наши эксперты мониторят динамику изменений территории и видят, что предложенный сценарий развития реализуется прямо пункт за пунктом. Можно открыть городскую новостную ленту и увидеть, что даже новости про Кангалассы хронологически идут ровно по этому плану. Так, наверное, может выглядеть успешное исследование с точки зрения реализации его идей. Но этот успех определило, в том числе, техническое задание, которое содержало и «дорожную карту», и конкретную пошаговую стратегию с детализацией. В то же время есть исследования, которые не спускаются на этот уровень: все оценили, но ничего не предложили. Гораздо интереснее создавать исследования, где есть алгоритм претворения найденных решений в жизнь. В этом случае, действительно, можно замерить их эффективность».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Насколько точно рекомендации и прогнозы, полученные на этапе исследования, должны совпадать с этапом реализации? По идее, комбинация совпадений и отличий плана от факта должна быть одним из важнейших доказательств эффективности исследования. Каков допустимый разрыв между данными исследования для проекта и тем, что получилось при его реализации?
«До 30% разницы «плана» и «факта» — нормально. Это значит — попали. В принципе, 30% — магическое число, оно является следствием статистического распределения. Более сильное, чем 30-процентное отклонение нужно анализировать. Но на практике это тоже можно зачастую объяснить: например, цены на ресурсы могут подорожать за год в 2 раза».

заведующая отделом «Лаборатория исследования креативных индустрий» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ
В разговоре про эффекты от городских исследования необходимо отметить, что они (эффекты) носят отложенный характер – соразмерно скорости изменений, которые происходят «на земле» и в отрасли.
«В 2017 году мы по своей инициативе провели исследование и выпустили книгу «Москва RE: промышленная. Типология производственных территорий и лучшие практики редевелопмента». Для нашей команды это был просветительский проект, заказчиком выступили мы сами. Книга на несколько лет стала настольной для многих профильных экспертов и людей, определяющих политику в этой сфере. А сейчас мы по заказу города работаем над «Москвой RЕ: промышленной 2.0». Изменилась Москва, изменился вектор ее развития. Теперь это город инновационного, научно-технического развития и необходимо проанализировать, какая именно промышленность может быть внутри него».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Впрочем, маркетинговые эффекты от исследования могут появится значительно раньше. Речь идет об исследованиях, которые имеют ярко выраженную промо-функцию, когда с помощью нетривиального подхода к анализу территории команда экспертов может ярко заявить о себе.
«Более двух лет назад мы делали большое исследование про базары Центральной Азии, которое вызвало интерес у потенциальных заказчиков. Не всегда это прямая корреляция: например, кто-то увидел аналитику про базары и рынки и решил, что ему тоже нужен такой объект, можно включить его в проект. То есть исследование может провоцировать запрос или новый взгляд на привычное. Кого-то заинтересовала не сам базар как интересный объект исследования, но и наш системный метод, в рамках которого мы работаем с широким мировым опытом, приземляя его на локальный контекст. Сейчас мы сделали подобное исследование по рекам и устойчивому девелопменту прибрежных территорий. В нем нам было важно поднять такие темы, как устойчивость с точки зрения климатических изменений, затоплений, разливов рек. Они не только влияют на город с точки зрения социальных аспектов, планирования, безопасности, но и имеют прикладную коммерческую пользу – для девелоперов».

руководитель проектов бюро ATLAS, глава R&D-центра
Возьмем теперь ситуацию, когда исследование используется избирательно. Как здесь считать эффекты?
«На самом деле, это нормальная история, когда исследование используется частично, когда оно обладает правильной избыточностью, и в нем информации чуть больше и оно обладает своего рода адекватной, правильной избыточностью: то есть содержит больше информации, чем используется здесь и сейчас. Дело в том, что исследование представляет разные развилки, сценарии развития информации и по умолчанию содержит больше информации. И это дело заказчика — понять, что именно из всего этого он возьмет для себя, исходя из своих управленческих стратегий и приоритетов».

сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group
Точка №6. Спрос на постпроектные исследования отсутствует
Одна из главных причин отсутствия постропректных исследований — устройство финансирования. Бюджет выделяется на конкретный проект, а после его окончания и, соответственно, завершения отношений «заказчик – исполнитель» просто некому отследить показатели реализации.
Другая причина заключается в том, что некоторые заказчики или стейхолдеры просто боятся в ходе постпроектного исследования получить информацию о том, что в процессе реализации проекта ничего не изменилось или даже ухудшилось, а какие-то показатели были не достигнуты — следовательно, они плохо работали.
Попытки зафиксировать постпроектные исследования как обязательную «санитарную норму» в регулирующие документы пока не удаются. Но есть отдельные волевые решения. Например, к 10-летию Программы развития общественных пространств Республики Татарстан, Институт развития городов РТ запустил масштабное постпроектное исследование, чтобы измерить ее градостроительные, экономические, социальные и управленческие эффекты. Результаты исследования будут использованы для улучшения действующей программы и при планировании новых масштабных проектов республики.
Пример с Татарстаном – прекрасное исключение из правил, но, возможно, и такой опыт уже недостаточен. В урбанистике не хватает не только постпроектных исследований, но и практически отсутствует такое явление, как Continuous Discovery, распространенное в «цифровых» продуктах, — когда исследования проводятся на протяжении всего жизненного цикла продукта, а не только для решения какой-либо конкретной задачи. Логика здесь проста: можно ждать, пока что-то сломается и идти исследовать, то есть «чинить», — а можно непрерывно искать точки улучшения.
Точка №7. Плагиат, заимствования и компиляции неискоренимы
С правовой стороны все просто: расчеты, выводы, гипотезы юридически ничем не защищены. У нас нет авторского права на метод или сценарий развития, идеи не патентуются, исследование – это не произведение, поэтому плагиат существует и будет продолжать существовать.
«Наше исследование по Дербенту превратилось в две диссертации, защищенные двумя разными людьми. Обнаружили мы это через публикации, которые вышли в электронных библиотеках, где мы и увидели огромную статью, в которой не поменялась ни одна строка. В данном случае мы добились, чтобы "авторы" сняли публикации и их удалили абсолютно везде. Но диссертации-то защищены, и кто-то стал кандидатом наук… Данная ситуация была вопиющей, поэтому мы потратили время и силы, чтобы защитить свое авторство. Но бороться с плагиатом на постоянной основе — это утопия.
Что касается заимствования идей в сфере исследований, то нам здесь важнее распространение, тиражирование, развитие некой мысли, которая представляет ценность для отрасли. Прорастание идей, где ты был первооткрывателем, в исследованиях коллег – это возможность формировать систему координат, в рамках которой мы все работаем».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Парадоксально, что задачу борьбы с плагиатом в исследованиях урбанистическая отрасль не ставит в надежде, что «все отрегулирует естественный отбор».
В каком-то смысле плагиат помогает отделить исследовательские материалы профессиональных команд, для которых указания источника данных – часть профессиональной дисциплины и гигиены, от материалов, в которых отсутствуют ссылки и указание авторства данных – это индикатор того, что в текстах или схемах читателя ждет сомасштабный уровень безграмотности и безответственности.
Другое дело, когда исследователь-исполнитель делает аналитику для заказчика, в договоре с которым написано, что последний не обязан называть своего контрагента. Тогда заказчик и не будет никого называть, публикуя те или иные данные, как бы горько это ни было.
Могут ли изменить отношение к плагиату публичные обсуждения и создание все той же атмосферы нетерпимости к интеллектуальным кражам? Не факт. Зная российскую ментальность, можно предположить, что к исследователю, который публично отстаивает свое авторство, отнесутся не как к борцу за справедливость, а как к сутяжнику. Который способен в случае чего применить свои опасные навыки по отношению к заказчику. Поэтому нам будет проще приравнять плагиат к оммажу – работе-подражанию, жесту уважения одного художника другому – и – двигаться дальше.
Точка №8. «Зачарованность» общественным мнением
Каждый исследователь, работающий с городской средой, знает, что, если «в лоб» спросить людей, чего они хотят, то будут получены максимально странные ответы. Чаще всего люди, особенно в небольших городах, говорят, что им нужен аквапарк или фонтан — эти ответы возникают в сам момент задавания вопроса. То есть обычный житель, когда ходит по улице, как правило, не может оценить экспертно и сформулировать, что причинит ему благо. И он начинает фантазировать: «Ага, вот я слышал, что в соседнем городе есть аквапарк, а у нас аквапарка нет. Там живут хорошо, а мы живем не очень, поэтому нам бы тоже надо аквапарк». Но поскольку «что такое “хорошо” и что такое “плохо”» в жизни города и человека не проявлено, не артикулировано, никакая волшебная таблетка, функцию которой выполняет «фонтан», не приведет к полезным изменениям среды.
«Нужно задавать те вопросы, про которые люди постоянно думают, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Это вопросы, в первую очередь, про практики и про проблемы. Не про запросы, а именно про проблемы. Потому что выведение запросов и, более того, решений в отношении того, что делать с городской средой, — это экспертное знание. Люди про это не знают и не обязаны знать».

сооснователь исследовательского агентства Synopsis Group
Между тем не верифицированное ничем мнение людей зачастую превращается в основание для исследовательских выводов, в приоритетный критерий для принятия решения в отношении городской среды. Такой явный перекос в аналитическом инструментарии возможен, например, в случае, если заказчик годами не общался с людьми и вдруг попал на публичные слушания. С них он вышел воодушевленный тайным знанием в виде гласа народа. Причем очень эмоционального — в отличии от скучных таблиц и графиков.
Значит ли это, что не нужно слушать мнения людей? Совершенно наоборот. Просто на урбанистике сегодня можно выстраивать сильный политический пиар – избирательный имидж исполнительной власти во многом состоит из того, как именно решаются городские проблемы. И там, где исследование сливается с политикой, используя, в частности, общественные опросы как «наказ электората», — там как аналитика она умирает.
«Часто общественные опросы выдаются за полноценные исследования, неверные метрики искаженно интерпретируются, городские исследования подменяются визуальными или нарративными впечатлениями. В итоге это девальвирует саму ценность исследования, создавая иллюзию экспертности без реального влияния на качество решений».
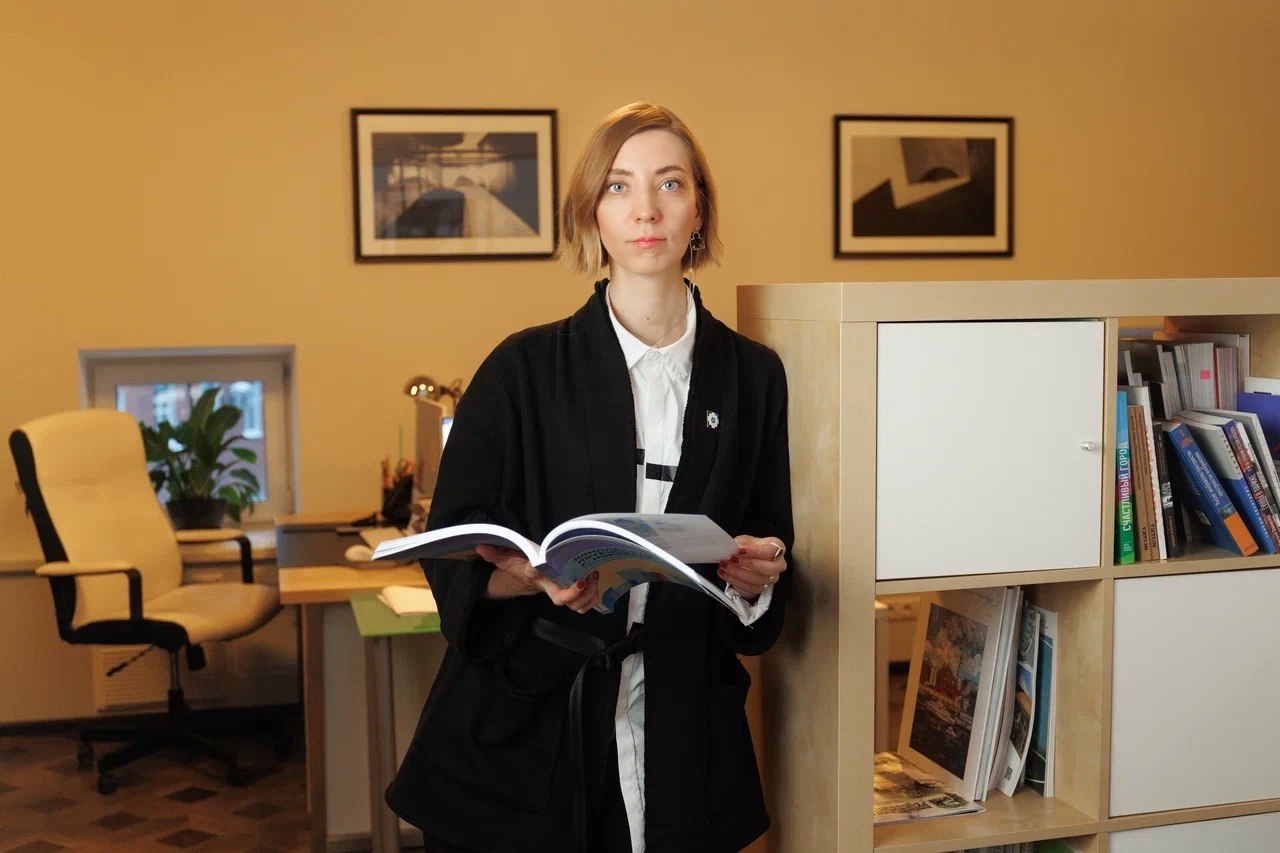
советник Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab»
Точка №9. «Зачарованность» BIG DATA
Другая крайность – «очарование цифрой». Рост цифровых данных про все и всех и пока их относительная открытость создает иллюзию полного контроля. Однако этот рост симметрично приводит к увеличению ресурсных затрат и уровня компетенции по их верификации и анализу.
«Качество данных при росте их количества становится сложнее контролировать. Мы не всегда уверены даже в базовой статистике — например, социально-демографической или экономической. Данных становится больше, качество их разное, как и стоимость, поэтому автоматически растет запрос на такие направления, как Data Science, Data Analytics, Data Journalist.
Есть еще один риск, связанный с цифровыми данными – возникает иллюзия, что они нам должны дать всю информацию. Но надо еще уметь их правильно интерпретировать и быть уверенным, что данные полные. При этом над «цифрой» может быть меньше контроля по сравнению с первичными полевыми данными — когда исследователь может быть уверен, что он увидел, посчитал, собрал именно то и так, что необходимо для целей проекта».
Еще одна проблема с цифрой заключается в том, что количественная информация создают впечатление обезличенной объективности. Это может ввести в заблуждение заказчика, который сочтет, что всю аналитику он уже и так имеет, зачем ему платить еще и за «полевые исследования».

руководитель проектов бюро ATLAS, глава R&D-центра
«В исследованиях ценится статистика, и это создает некоторый перекос, как мне кажется, в сторону данных, которые подкреплены цифрами. Они априори выглядят более экспертными. А вот качественные инсайты находить становится все сложнее. И они в принципе теряются на фоне графиков и разных метрик, создавая, тем самым, некоторый диссонанс. Чтобы его избежать, нужен сбалансированный исследовательский инструментарий: от источников информации до методов верификации и анализа. Нельзя ограничиваться только чем-то одним — например, уйти в транспортные модели, досконально просмотреть всю статистику, но не сделать ни шага на территорию. Здесь важно увидеть общую картину, исходя из которой можно искать ответы – например, на вопрос «почему люди уезжают и что с этим делать?».
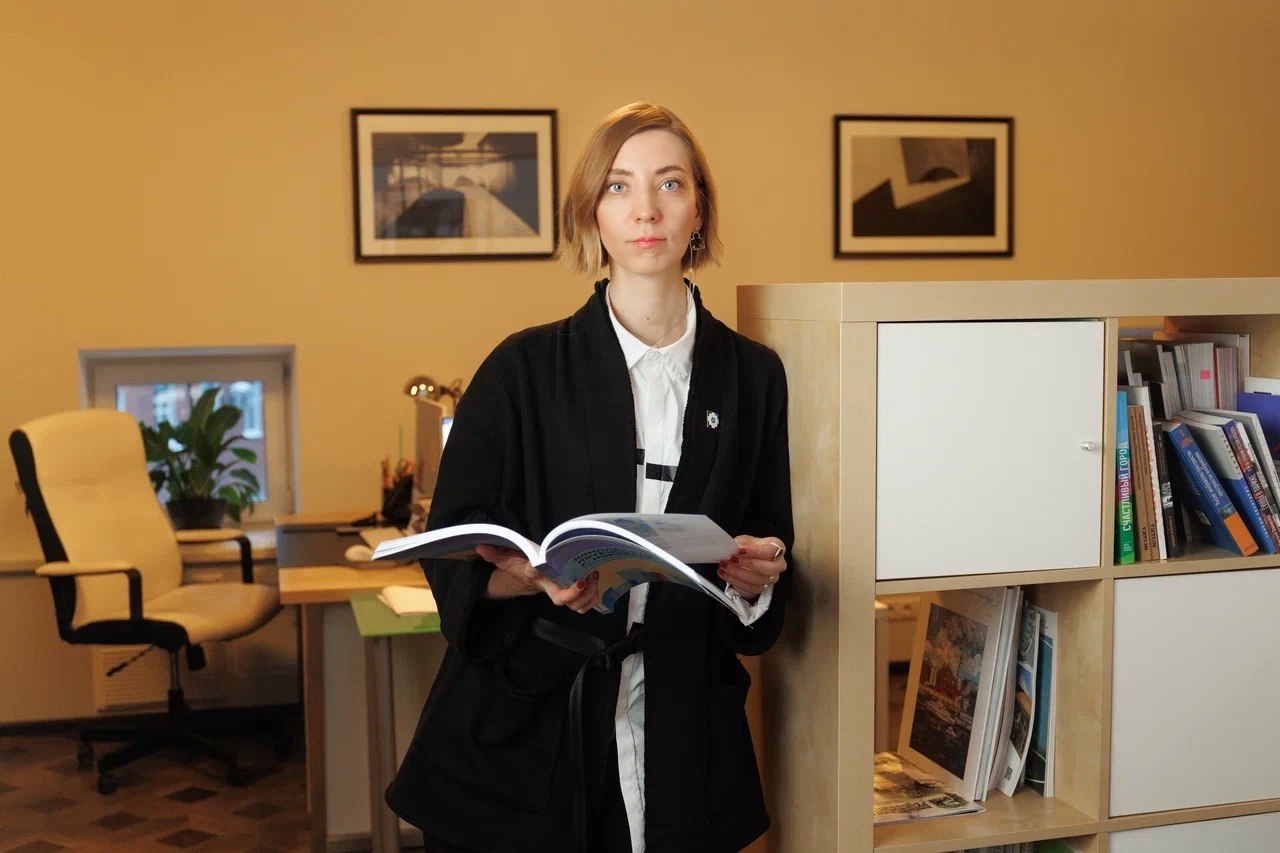
советник Международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab»
Бонус. Рейтинг добавочной стоимости исследовательского бренда
Поскольку детальное исследование рынка городских исследований пока не является нашей задачей, рейтинга доходов консалтинговых компаний здесь не будет. Однако разговор про деньги в данном тексте важен для понимания причины разброса цен как важной характеристики рынка: запрашиваемая стоимость за одно и то же городское исследование может отличаться в 2,5-3 раза в зависимости от ценовой политики компании и того, что за ней стоит.
«Еще 10-15 лет назад за исследование как отдельную услугу заказчики не хотели платить, не понимая связи между комплексным анализом территории и теми эффектами, которые они хотели бы получить. У нас были проекты, в рамках которых мы проводили исследования из своей прибыли или за свой счет, чтобы доказать клиенту значимость данной работы. Постепенно спрос на аналитику сформировался. Сегодня исследование нередко прописано в техническом задании как обязательный вид работ со своей ценой. И это – одно из достижений отрасли, доказательство ее развития».

соучредитель Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Вывести среднюю рентабельность на рынке городского консалтинга не представляется возможным. У компаний слишком разный подход к формированию коммерческого предложения и статей расходов в каждом конкретном проекте, которые не сходятся к общему знаменателю.
Разброс цен на отдельные виды работ — социологические исследования, экологический анализ, социально-экономический анализ, оценку перспектив развития рынка транспортных услуг и т.п. – может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей за один и тот же объем задач.
Процент рентабельности по очень условным оценкам составляет в среднем от 10 % до 20 %. Или проект вообще может «выйти в ноль». Проекты с более высокой рентабельностью также имеют место быть: чаще речь идет о сравнительно небольших работах без существенных расходов на закупку данных, выезд на территорию исследования и пр. Все это – очень приблизительные цифры, без учета, например, того, какие прямые и косвенные расходы «зашиты» в коммерческом предложении на исследование, а какие – разбросаны по другим проектам с тем же или иными заказчиками.
Более или менее объективно можно говорить о добавочной стоимости бренда консалтинговой компании к цене за исследование. В целом за последние годы ситуация не изменилась. Мнимый уход «большой тройки» (или «большой четверки») международных консультантов практически ни на что не повлиял.
Во-первых, большинство по факту никуда не ушли, а продолжают работать, как и работали, через российские представительства. Во-вторых, не изменилась и главная причина того, что заказчики ранее покупали исследования под брендом, к примеру, Knight Frank, а теперь NF Group. Или ранее под брендом Cushman&Wakefield, а теперь – Commonwealth Partnership. И в том, и другом случае речь идет о международном бренде в любом его проявлении как о «золотом» стандарте доказательства состоятельности исследования в глазах акционеров крупнейших корпораций. Здесь стоимость бренда как «презумпции качества» может добавить к стоимости исследования от 50 % до 100 % и выше.
Высокая добавочная стоимость бренда (до 50 % к цене) сохраняется у российских вузов, в состав которых входят аналитические центры, занимающиеся городскими исследованиями, — например, РАНХИГС, НИУ ВШЭ. В данном случае «презумпция качества» опирается на научный подход и академические ресурсы.
Особняком стоял и, вероятно, сохранит свое исключительное положение после реорганизации бренд КБ «СТРЕЛКА» — команда, которая существенно изменила отношение к исследовательской деятельности и, в том числе, отношение к ценообразованию. Обсуждать добавочную стоимость бренда «СТРЕЛКА», вероятно, можно в рамках тендеров на консалтинговые услуги, где политика бюро сопоставима с международными брендами. В случае же прямого заказа на исследования со стороны заказчика стоимость бренда могла быть любой.
Далее идут такие игроки, как CM International, RTDA, Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», консалтинговая компания ATLAS, horovod.space, Synopsis Group и пр. Их объединяет отсутствие возможности опереться на «магию» международного или научного бренда и необходимость формировать и совершенствовать собственный бренд, выстраивать собственную нишу, разрабатывать индивидуальные методики и подход к городам и территориям. Дополнительная стоимость такого индивидуального бренда к заказу на исследование – от 15 %.
Замыкает условную иерархию на рынке исследований многочисленная армия новых компаний, претендующих на свой «кусок аналитического пирога». Значительная часть этой армии состоит из архитектурных бюро, предлагающих заказчику исследование в качестве дополнительной услуги к проектированию (или вынужденных браться за данную задачу как навязанную со стороны того же заказчика). Здесь сложно говорить о том, добавляет ли бренд архитектора что-либо к стоимости исследования. Скорее, речь идет о демпинге: исследование, которое в среднем стоит 1 млн. руб., игроки из данного сектора могут взяться сделать за 300 тыс. руб.


